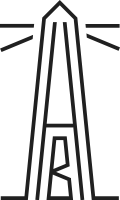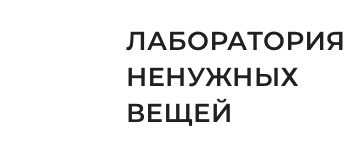«Прошлое знают,
настоящее познают,
будущее предугадывают»
настоящее познают,
будущее предугадывают»
10 января 2020
Пётр Владиславович Резвых и участники семинара вспоминают и обсуждают основные темы, проблемы, интригующие мыслительные ходы и тёмные места в тексте «Мировых эпох» (1811) Фридриха Шеллинга.
Делимся стенограммой доклада:
Мы прочли больше двух третей объема, это достаточно большой массив сложно устроенного текста (…) прочли «Введение» и значительную часть первой части этого большого сочинения, которое было задумано Шеллингом как трехчастное.
[15:00] Что мы с вами уже прошли? Сначала мы читали «Введение». «Введение» представляет собой отдельный текст; мы знаем, что во всех трех версиях, которые сохранились, оно существенно не отличается — это одна из тех немногих частей, которые почти не претерпели изменений в процессе переработки на пути от первой версии 1811 года через версию 1813 года к версии 1815 года и позднейшим переработкам. Она представляет собой декларацию о намерениях и начинается с эмфатического зачина: с выделения трех способов постижения, характерных для трех временных измерений — прошлого, настоящего и будущего. С каждым из этих способов постижения соотносится соответствующий модус речи. Прошлое знают, настоящее познают, будущее предугадывают. О том, что знают, рассказывают, то, что познаётся, изображают, а о том , что предугадывается, пророчествуют.
Эти три модуса речи — повествование, изображение (или: изложение), и пророчество — задают координаты для того, что Шеллинг очерчивает в качестве основной задачи во «Введении». Собственно, введение посвящено рефлексии по поводу того, что является предметом сочинения, почему оно является именно теперь, в тот момент, когда оно формулируется, и как с этим соотносится избранная Шеллингом форма речи. Там можно выделить три важных темы.
Одна важная тема — понятие о науке как о таком знании, в котором не просто осуществляется субъективное движение понятий или субъективная логическая машинерия, но раскрывается, или, как говорит Шеллинг, себя являет, изображает себя сама изначально живая сущность, то изначально живое, которое служит истоком всего и всякого бытия. Соответственно, если наука должна быть не движением понятий, а изображением живой сущности, то это налагает определённые требования на то, как сама речь в этой науке должна быть устроена. Здесь ключевая тема, как мы говорили в самом начале, вырастает из его размежевания (по крайней мере, латентного) с Гегелем. Это тема взаимосвязи и демаркации двух специфических, связанных друг с другом, но принципиально различных по своему устройству способов экспликации философского содержания:, с одной стороны, диалектика, движение понятий — а с другой стороны, история, историческое повествование о действительно свершившихся событиях. И Шеллинг размышляет о том, насколько возможно, чтобы наука действительно достигла той формы, которой она, желая действительно соединиться с реальностью, всегда стремилась достичь — а это форма истории. История, повествование — это идеальная форма повествования для постигнутого.
Илья Гурьянов: Можно уточнить?— То есть, получается, что Шеллинг развёртывает своё повествование, осциллируя между точками настоящего и будущего, прошлого и настоящего?
Пётр Резвых: Совершенно верно, это именно то, что я сейчас хотел сказать. Речь, которую Шеллинг здесь развёртывает, в этом противодействии диалектики и истории, имеет такой двойственный статус. Шеллинг много размышляет о том, что всякая речь должна осознавать своё место внутри того процесса, который она хочет охватить или схватить. Парадокс философской речи в том, что, она, с одной стороны, хочет охватить целое и претендует на охват целого, но одновременно говорит изнутри этого целого как незавершённого. Поэтому оказывается, что речь философа должна строиться таким образом, чтобы она всё время удерживала эту дистанцию по отношению к горизонту завершения, но в себе свидетельство о своей собственной незавершенности всё время сохраняла. Как он говорит, нам нельзя недооценивать своего времени, и переоценивать его нельзя.
«Нельзя забегать вперёд»… риторика, очень напоминающая риторику первых параграфов «Beiträge zur Philosophie» Хайдеггера. С одной стороны, мы не можем забегать вперёд и срывать плоды времени прежде, чем они созрели, это было бы неправильно. А с другой стороны, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, что если какие-то вещи созрели, то приуготовление к ним не может осуществляться без нашего участия, без нашего собственного усилия. Поэтому он говорит о том, что речь, которая предлагается — это ещё не повествование, какое возможно было бы тогда, когда вернётся золотой век и между языком и предметом не будет больше зазора. Он спрашивает, наступит ли когда-нибудь наконец время, когда философия будет освобождена от необходимости аргументировать, доказывать, взвешивать альтернативные доводы, а будет просто повествовать, как было на самом деле — «что было, что есть и что будет», цитируя Гесиода. Шеллинг говорит нам о том, что это время ещё не настало. Оно близко, следы, признаки его наступления уже можно смутно различить (эта тема для всех тюбингенских друзей — и для Шеллинга, и для Гегеля, и для Гёльдерлина — была одной из ключевых). Это время близко, оно при дверях, но ещё не наступило, и поэтому мы не можем ещё пока быть сказителями.
Может быть, когда-нибудь явится поэт и сложит великий мировой эпос , в котором расскажет, «что было, что есть и что будет», и притом так, как оно «на самом деле». Но мы пока не можем быть сказителями, мы можем быть только исследователями. Этим, собственно, заканчивается «Введение». Поэтому мы, с одной стороны, вынуждены прибегать к протезам диалектики (без них пока невозможно добраться до сущности мировой целостности), а с другой стороны, этот диалектический инструментарий должен нами сознаваться как такой, который имеет вспомогательный характер и сам собою, своим внутренним движением не даст нам постижения того, что мы хотим постичь. В этом смысле это должно быть такое теоретическое движение, которое изнутри все время демонстрирует свою недостаточность. Шеллинг нас предупреждает (и мы видели в тексте, что так оно и происходит), что диалектическая экспликация каждый раз в определённый момент начинает «буксовать», и чтобы следующий «движок» осуществить, необходима инвестиция, которая не дается самими диалектическими понятиями, а берётся из некоторого опыта . Необходима инвестиция внутреннего опыта, которая позволяет нам выйти из некоторого затруднения, которое диалектически разрешить нельзя.
Илья Гурьянов: Внутреннего опыта — в смысле того прошлого, которое известно, который уже дан, то есть, в смысле прошлого?
Пётр Резвых: Да, с этого как раз и начинается первая часть. Первые пассажи вращаются как раз вокруг этой важной темы: что есть в нашем распоряжении, если мы хотим постичь настоящее, прошлое и будущее в их подлинном эмфатическом смысле, а этот эмфатический смысл связан с пониманием самого мира как целого, как некоторого события?
[15:00] Что мы с вами уже прошли? Сначала мы читали «Введение». «Введение» представляет собой отдельный текст; мы знаем, что во всех трех версиях, которые сохранились, оно существенно не отличается — это одна из тех немногих частей, которые почти не претерпели изменений в процессе переработки на пути от первой версии 1811 года через версию 1813 года к версии 1815 года и позднейшим переработкам. Она представляет собой декларацию о намерениях и начинается с эмфатического зачина: с выделения трех способов постижения, характерных для трех временных измерений — прошлого, настоящего и будущего. С каждым из этих способов постижения соотносится соответствующий модус речи. Прошлое знают, настоящее познают, будущее предугадывают. О том, что знают, рассказывают, то, что познаётся, изображают, а о том , что предугадывается, пророчествуют.
Эти три модуса речи — повествование, изображение (или: изложение), и пророчество — задают координаты для того, что Шеллинг очерчивает в качестве основной задачи во «Введении». Собственно, введение посвящено рефлексии по поводу того, что является предметом сочинения, почему оно является именно теперь, в тот момент, когда оно формулируется, и как с этим соотносится избранная Шеллингом форма речи. Там можно выделить три важных темы.
Одна важная тема — понятие о науке как о таком знании, в котором не просто осуществляется субъективное движение понятий или субъективная логическая машинерия, но раскрывается, или, как говорит Шеллинг, себя являет, изображает себя сама изначально живая сущность, то изначально живое, которое служит истоком всего и всякого бытия. Соответственно, если наука должна быть не движением понятий, а изображением живой сущности, то это налагает определённые требования на то, как сама речь в этой науке должна быть устроена. Здесь ключевая тема, как мы говорили в самом начале, вырастает из его размежевания (по крайней мере, латентного) с Гегелем. Это тема взаимосвязи и демаркации двух специфических, связанных друг с другом, но принципиально различных по своему устройству способов экспликации философского содержания:, с одной стороны, диалектика, движение понятий — а с другой стороны, история, историческое повествование о действительно свершившихся событиях. И Шеллинг размышляет о том, насколько возможно, чтобы наука действительно достигла той формы, которой она, желая действительно соединиться с реальностью, всегда стремилась достичь — а это форма истории. История, повествование — это идеальная форма повествования для постигнутого.
Илья Гурьянов: Можно уточнить?— То есть, получается, что Шеллинг развёртывает своё повествование, осциллируя между точками настоящего и будущего, прошлого и настоящего?
Пётр Резвых: Совершенно верно, это именно то, что я сейчас хотел сказать. Речь, которую Шеллинг здесь развёртывает, в этом противодействии диалектики и истории, имеет такой двойственный статус. Шеллинг много размышляет о том, что всякая речь должна осознавать своё место внутри того процесса, который она хочет охватить или схватить. Парадокс философской речи в том, что, она, с одной стороны, хочет охватить целое и претендует на охват целого, но одновременно говорит изнутри этого целого как незавершённого. Поэтому оказывается, что речь философа должна строиться таким образом, чтобы она всё время удерживала эту дистанцию по отношению к горизонту завершения, но в себе свидетельство о своей собственной незавершенности всё время сохраняла. Как он говорит, нам нельзя недооценивать своего времени, и переоценивать его нельзя.
«Нельзя забегать вперёд»… риторика, очень напоминающая риторику первых параграфов «Beiträge zur Philosophie» Хайдеггера. С одной стороны, мы не можем забегать вперёд и срывать плоды времени прежде, чем они созрели, это было бы неправильно. А с другой стороны, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, что если какие-то вещи созрели, то приуготовление к ним не может осуществляться без нашего участия, без нашего собственного усилия. Поэтому он говорит о том, что речь, которая предлагается — это ещё не повествование, какое возможно было бы тогда, когда вернётся золотой век и между языком и предметом не будет больше зазора. Он спрашивает, наступит ли когда-нибудь наконец время, когда философия будет освобождена от необходимости аргументировать, доказывать, взвешивать альтернативные доводы, а будет просто повествовать, как было на самом деле — «что было, что есть и что будет», цитируя Гесиода. Шеллинг говорит нам о том, что это время ещё не настало. Оно близко, следы, признаки его наступления уже можно смутно различить (эта тема для всех тюбингенских друзей — и для Шеллинга, и для Гегеля, и для Гёльдерлина — была одной из ключевых). Это время близко, оно при дверях, но ещё не наступило, и поэтому мы не можем ещё пока быть сказителями.
Может быть, когда-нибудь явится поэт и сложит великий мировой эпос , в котором расскажет, «что было, что есть и что будет», и притом так, как оно «на самом деле». Но мы пока не можем быть сказителями, мы можем быть только исследователями. Этим, собственно, заканчивается «Введение». Поэтому мы, с одной стороны, вынуждены прибегать к протезам диалектики (без них пока невозможно добраться до сущности мировой целостности), а с другой стороны, этот диалектический инструментарий должен нами сознаваться как такой, который имеет вспомогательный характер и сам собою, своим внутренним движением не даст нам постижения того, что мы хотим постичь. В этом смысле это должно быть такое теоретическое движение, которое изнутри все время демонстрирует свою недостаточность. Шеллинг нас предупреждает (и мы видели в тексте, что так оно и происходит), что диалектическая экспликация каждый раз в определённый момент начинает «буксовать», и чтобы следующий «движок» осуществить, необходима инвестиция, которая не дается самими диалектическими понятиями, а берётся из некоторого опыта . Необходима инвестиция внутреннего опыта, которая позволяет нам выйти из некоторого затруднения, которое диалектически разрешить нельзя.
Илья Гурьянов: Внутреннего опыта — в смысле того прошлого, которое известно, который уже дан, то есть, в смысле прошлого?
Пётр Резвых: Да, с этого как раз и начинается первая часть. Первые пассажи вращаются как раз вокруг этой важной темы: что есть в нашем распоряжении, если мы хотим постичь настоящее, прошлое и будущее в их подлинном эмфатическом смысле, а этот эмфатический смысл связан с пониманием самого мира как целого, как некоторого события?
[24:12]
Даниил Аронсон: У меня появился вопрос по поводу этой фразы «мы пока можем быть лишь исследователями». То есть, Шеллинг имеет в виду, что грядёт некоторое откровение, после которого мы сможем быть не просто исследователями, а чем-то большим?
Пётр Резвых: Да, если угодно. Я не знаю, насколько это можно назвать откровением в том специально оговоренном смысле, который это слово имеет в поздних текстах, но то связано с его теорией откровения, с представлением, что грядёт какое-то событие, событийный какой-то сдвиг, который сделает понятным… Мы говорили много об этом и в связи с Шеллингом, и в связи с Хайдеггером, что в этом и состоит смысл и логика пророческой речи, в отличие от исследовательской речи. Она своей собственной легитимации в себе не содержит, и легитимация её осуществляется всегда задним числом. То, что пророчество было пророчеством, мы узнаем тогда, когда оно исполнилось, а не наоборот. И о чем оно было пророчеством, мы узнаем благодаря тому, что нечто произошло.
Даниил Аронсон: То есть, можно ли сказать, что Шеллинг пока что говорит: «мы пока можем притязать только на статус исследователей, потому что пророками нас сделают потом?»
Пётр Резвых: Да, это произойдёт потом.
Даниил Аронсон: Я бы сказал, что он дико схитрил.
Пётр Резвых: Но это очень трезвая мысль. Действительно, очень интересный вопрос. Он говорит об этой связи (Ahnung и Weissagung); Тот способ постижения, который связан с будущим, с грядущим, он называет Ahnung, это совершенно замечательное слово означает «смутно догадываться, предчувствовать». Причем именно эта его неопределенность конститутивна. Это не ясное познание, это смутное предчувствование и предугадывание, но оно не несет в себе содержательной определенности. Оно эту определенность получает тогда, когда что-то происходит, и ты говоришь: «А, я же об этом догадывался, я чувствовал, тогда вот... был звоночек…»
Даниил Аронсон: У меня всё-таки ещё вопрос. Тот факт, что мы знаем, что только будущее сделает нас пророками задним числом, и мы пока притязаем лишь на то, чтобы быть исследователями, это сознание, что я могу притязать только на то, что я исследователь, как-то влияет на то, что я делаю? Оно для меня является руководством, как мне себя вести?
Пётр Резвых: Это очень сложный вопрос. На самом деле я думаю, что оно, безусловно, является неким направляющим моего действия. Это глобальный вопрос для всего позднего шеллинговского творчества: какая у него есть практическая, антропологическая, аскетическая и т.п.перспектива? Это очень темный вопрос.
Я недавно опубликовал перевод одного эзотерического текста, который с этими вещами связан — он называется «Психологическая схема». (…) Это очень интересный документ, он был составлен в 1837 году и не имел публичного применения. Составлен он был специально по заказу баварского кронпринца Максимилиана (впоследствии короля) как некоторая экспликация того содержания, в частности, философии откровения, которое в публичных лекциях не обсуждалось вообще: т.е. приложения теории потенций к пониманию человеческого поведения. Там он очень интересные вещи намечает. Из этого текста ясно, что у него была хорошо, достаточно ясно сложившаяся своя антропологическая и этико-аскетическая концепция, но он её нигде не обнародовал. Она обсуждалась, видимо, в круге ближайших учеников и вообще тематизируется в его творчестве только два раза: один раз в Штутгартских лекциях, которые читались для узкого круга в 1810 году (непосредственно перед началом работы над «Мировыми эпохами»), а второй раз — вот в этой «Психологической схеме».
Она известна в двух версиях: одна была опубликована ещё сыном в начале 1860-х годов и называлась «Антропологическая схема», её как-то особо не комментировали, а интерес к ней возник в связи с тем, что Вальтер Эрхардт в конце 1980-х начале 1990-х годов опубликовал другой текст, который называется «Психологическая схема» — он так не озаглавлен, но из контекста переписки с Максимилианом ясно, что именно так Шеллинг его называл, не «антропологическая», а именно «психологическая схема». Этот текст чуть-чуть отличается в делении, в графическом оформлении от того, который опубликовал сын, и это авторский текст, то есть он более соответствует тому, что Шеллинг как автор себе представлял (в том, что опубликовал сын, он чуть-чуть что-то поправил , поменял членение… в общем, версия Эрхардта более аутентичная). Эти два документа приоткрывают немножко дверцу в эти вопросы. Такое представление о знании и познании имеет определенное практическое значение, . Но какое — это предметы для довольно специальной работы, это можно лишь косвенно вывести из разных вещей, которые в текстах Шеллинга содержатся.
Даниил Аронсон: У меня появился вопрос по поводу этой фразы «мы пока можем быть лишь исследователями». То есть, Шеллинг имеет в виду, что грядёт некоторое откровение, после которого мы сможем быть не просто исследователями, а чем-то большим?
Пётр Резвых: Да, если угодно. Я не знаю, насколько это можно назвать откровением в том специально оговоренном смысле, который это слово имеет в поздних текстах, но то связано с его теорией откровения, с представлением, что грядёт какое-то событие, событийный какой-то сдвиг, который сделает понятным… Мы говорили много об этом и в связи с Шеллингом, и в связи с Хайдеггером, что в этом и состоит смысл и логика пророческой речи, в отличие от исследовательской речи. Она своей собственной легитимации в себе не содержит, и легитимация её осуществляется всегда задним числом. То, что пророчество было пророчеством, мы узнаем тогда, когда оно исполнилось, а не наоборот. И о чем оно было пророчеством, мы узнаем благодаря тому, что нечто произошло.
Даниил Аронсон: То есть, можно ли сказать, что Шеллинг пока что говорит: «мы пока можем притязать только на статус исследователей, потому что пророками нас сделают потом?»
Пётр Резвых: Да, это произойдёт потом.
Даниил Аронсон: Я бы сказал, что он дико схитрил.
Пётр Резвых: Но это очень трезвая мысль. Действительно, очень интересный вопрос. Он говорит об этой связи (Ahnung и Weissagung); Тот способ постижения, который связан с будущим, с грядущим, он называет Ahnung, это совершенно замечательное слово означает «смутно догадываться, предчувствовать». Причем именно эта его неопределенность конститутивна. Это не ясное познание, это смутное предчувствование и предугадывание, но оно не несет в себе содержательной определенности. Оно эту определенность получает тогда, когда что-то происходит, и ты говоришь: «А, я же об этом догадывался, я чувствовал, тогда вот... был звоночек…»
Даниил Аронсон: У меня всё-таки ещё вопрос. Тот факт, что мы знаем, что только будущее сделает нас пророками задним числом, и мы пока притязаем лишь на то, чтобы быть исследователями, это сознание, что я могу притязать только на то, что я исследователь, как-то влияет на то, что я делаю? Оно для меня является руководством, как мне себя вести?
Пётр Резвых: Это очень сложный вопрос. На самом деле я думаю, что оно, безусловно, является неким направляющим моего действия. Это глобальный вопрос для всего позднего шеллинговского творчества: какая у него есть практическая, антропологическая, аскетическая и т.п.перспектива? Это очень темный вопрос.
Я недавно опубликовал перевод одного эзотерического текста, который с этими вещами связан — он называется «Психологическая схема». (…) Это очень интересный документ, он был составлен в 1837 году и не имел публичного применения. Составлен он был специально по заказу баварского кронпринца Максимилиана (впоследствии короля) как некоторая экспликация того содержания, в частности, философии откровения, которое в публичных лекциях не обсуждалось вообще: т.е. приложения теории потенций к пониманию человеческого поведения. Там он очень интересные вещи намечает. Из этого текста ясно, что у него была хорошо, достаточно ясно сложившаяся своя антропологическая и этико-аскетическая концепция, но он её нигде не обнародовал. Она обсуждалась, видимо, в круге ближайших учеников и вообще тематизируется в его творчестве только два раза: один раз в Штутгартских лекциях, которые читались для узкого круга в 1810 году (непосредственно перед началом работы над «Мировыми эпохами»), а второй раз — вот в этой «Психологической схеме».
Она известна в двух версиях: одна была опубликована ещё сыном в начале 1860-х годов и называлась «Антропологическая схема», её как-то особо не комментировали, а интерес к ней возник в связи с тем, что Вальтер Эрхардт в конце 1980-х начале 1990-х годов опубликовал другой текст, который называется «Психологическая схема» — он так не озаглавлен, но из контекста переписки с Максимилианом ясно, что именно так Шеллинг его называл, не «антропологическая», а именно «психологическая схема». Этот текст чуть-чуть отличается в делении, в графическом оформлении от того, который опубликовал сын, и это авторский текст, то есть он более соответствует тому, что Шеллинг как автор себе представлял (в том, что опубликовал сын, он чуть-чуть что-то поправил , поменял членение… в общем, версия Эрхардта более аутентичная). Эти два документа приоткрывают немножко дверцу в эти вопросы. Такое представление о знании и познании имеет определенное практическое значение, . Но какое — это предметы для довольно специальной работы, это можно лишь косвенно вывести из разных вещей, которые в текстах Шеллинга содержатся.
Даниил Аронсон: Просто почему я начал задавать эти вопросы: когда слышишь такое «мы пока должны быть только исследователями», в голову приходит одиннадцатый тезис о Фейербахе сразу. Всё, 1848 год, событие случилось, теперь можно позволить себе не быть аскетами, а быть…
Пётр Резвых: Это сложный вопрос. Я уже не говорю о том,что к 1848 году у Шеллинга было тоже отношение такое…
Даниил Аронсон: Шеллинг события не увидел.
Пётр Резвых: Ну, он много чего увидел того, чего было к месту, на самом деле. Я по этому поводу выступал в Калининграде, если интересно («Шеллинг и революция: государство как средство»). Там просто есть интересный материал дневниковый, я там его цитирую. Там всякие весёлые есть вещи, по поводу того, какие формы имеет народное ликование и как на них реагирует философ — это очень любопытно.
[31:56]
Итак, мы говорили, что одна важная тема связана со статусом философской речи, c промежуточным характером того предприятия, которое Шеллинг здесь затевает. С этим связана и его специфическая методическая установка, которую Шеллинг в самом начале здесь заявляет — то, что я условно называю методическим антропоморфизмом. Если возможна какая-то другая инвестиция, кроме инвестиции, которую может дать движение голых понятийных форм, то, что туда может быть вложено — это то, что человек может почерпнуть из своего собственного внутреннего опыта. Легитимация такого обращения к внутреннему опыту и к аналогии между человеческими отношениями и обстоятельствами и большими метафизическими связями — заключается для Шеллинга в том, что человек обладает специфическим статусом, свидетельством творения, как он говорит, со-ведением (Mit-Wissenschaft). Человек причастен началу, и эта его причастность началу не только даёт нам право, но и обязывает нас мыслить, опираясь на этот сверхмирный принцип, который есть в человеке и через обращение к которому философское исследование получает каждый раз новый ресурс, поскольку в человеке есть такой сверхмирный принцип, это позволяет нам через обращение к самому себе осуществить внутренний диалог между двумя сущностями, одна из которых знает, а другая ищет знания, одна из которых вопрошает, а другая ответствует. Как говорит Шеллинг, эта внутренняя беседа есть подлинное таинство философа, лишь внешней тенью и призраком которого является то, что обычно именуют диалектикой, а именно, диалектика голых понятийных форм. Отсюда эта его установка, исторически связанная с его апелляцией к Гаману (он здесь и в других текстах в этой связи цитирует Гамана, «человек есть источник аналогий для универсума»).
Даниил Аронсон: Аналогия беседы связана с тем, что если у Гегеля те, что диалектически взаимодействуют — это понятия, то у Шеллинга это лица?
Пётр Резвых: Да, это лица, персоны, которые становятся персонами потому, что каждая представляет собой сложную констелляцию сил. Поэтому у Шеллинга и диалектическое движение совершенно по-другому устроено, чем у Гегеля. Но к этому мы еще вернемся.
Итак, апелляция к сверхмирному принципу даёт нам возможность рассматривать человека как источник аналогий для первосущности и позволяет опираться в значительной степени вот на это внутреннее созерцание — причем на внутреннее созерцание не только в каком-то специальном аскетическом смысле, но и на вполне повседневный, житейский опыт, связанный с действием самоопределения, принятия решения, обращения к самому себе, рефлексии и так далее. То есть это те вещи, которые не являются прерогативой как бы специального аскета-философа, который особую отдельную духовную практику для этого использует, а которые в принципе любому человеку доступны — в той мере, в какой он обращаясь к себе, может как-то схватить эти первые движения, которые в нем с этим домировым прошлым его связывают. То есть, он связан каким-то образом с теми истоками, которые являются истоками Вселенной , и движение этих начал в себе он может поймать и по этому движению понять, как в начале диспозиция этих движений была каким-то образом задана или предобразована.
В связи с этим представление о том, что отношения между этими сущностями, которые в диалоге находятся, это отношения между персонами (отношения между персонами — это прежде всего отношения между волями, а значит, между силами), оно приводит к очень важному моменту, который существенным образом шеллинговскую диалектическую модель от гегелевской отличает. Для Шеллинга противоположности, которые являются как бы действующими принципами внутри диалектического движения, выступают все время как силы: это значит, что они выступают как интенсивные величины. Выступая все время как интенсивные величины, они друг через друга все время обнаруживаются — через противодействие друг другу. И этот характер противодействия всегда имеет количественное измерение, то есть всегда силы не просто противостоят друг другу, но из этого противостояния развёртывается континуум их возможных количественных соотношений друг с другом. Это его любимая интуиция ещё с самых ранних сочинений, и в этом смысле любые антитезы, любые противоположности: субъективное—объективное, идеальное—реальное, и все прочие — не берутся как абстрактные логические антитезы. Они берутся всегда как силовые величины, они всегда находятся в процессе взаимодействия. Этот процесс взаимодействия — это процесс изменения их количественного соотношения и изменения перевеса одного над другим.
Илья Гурьянов: То есть, перетягивание каната.
Пётр Резвых: Если угодно. И с этой интуицией как раз связаны все его дальнейшие попытки развернуть повествование, частично диалектическое, частично визионерское, о том, как же первосущность собственно становится источником бытия.
[38:57]
Даниил Аронсон: Всё-таки, у нас две очень разные аналогии, я пытаюсь в голове их связать. Одна — беседа, где они беседуют, а другая — физический образ поля.
Пётр Резвых: Но это не мирная беседа, это соотношение между вопрошающим и ответствующим… это, если угодно, такая майевтическая беседа.
Эльфир Сагетдинов: Разборка.
Пётр Резвых: Здесь нет этих мотивов так явно, как они есть в более поздних текстах. Например, в эрлангенском курсе есть огромный, совершенно чудесный пассаж про майевтику, где он очень остроумно буквализует эту метафору родовспоможения. Что происходит, когда происходит родовспоможение? Это тоже противоборство двух тенденций: тенденции, которая связана с младенцем, стремящимся выйти наружу, и тенденции усилий роженицы, которая на самом деле, парадоксальным образом, только благодаря тому позволяет ему выйти наружу, что препятствует ему действовать самостоятельно. И он там говорит, что именно поэтому задача повивальной бабки заключается не в том, чтобы облегчить деятельность роженицы, а наоборот, чтобы её затруднить максимально, чтобы роженица больше напрягалась. Потому что если она напрягаться не будет, то противодействия не будет, а если противодействия не будет, то плод не родится, или он родится какой-то неправильный, уродливый и так далее. Это означает, что майевтическое движение — это аналогия между майевтическим движением в философском смысле и собственно родами. Шеллинг вообще очень любит перинатальные метафоры ; достойно всяческого удивления, что никто из психоаналитиков до недавнего времени вообще этими текстами не интересовался, хотя для всякого рода глубинной психологии это просто Клондайк. Есть только одна смешная феминистическая книжка на эту тему, но не очень убедительная, а так вообще люди потеряли много, конечно.
Даниил Аронсон: А вот всё-таки насчёт беседы: получается, раз для него это вполне такая цельная аналогия, то для Шеллинга то, что передается в беседе, это не какие-то дискретные штуки типа смыслов, а какие-то воздействия?
Пётр Резвых: Да, это взаимодействие, это не обмен информацией и даже не обмен аргументами. Отсюда далеко очень пойти можно: ведь это вопрошание и ответствование понимаются не как дискурсивные операции, они почти в протохайдеггеровском смысле могут быть поняты.
Даниил Аронсон: Это обмен заряженными частицами
Пётр Резвых: Да, если угодно.
Екатерина Хан: То есть, если возвращаться к предыдущему, можно ли предположить, что это как раз связь условного откровения той воли, которая является изначальной, но которая не является собственным произволением… то есть, я не совершаю предугадывание потому, что сажусь, например, напрягаюсь, предпринимаю усилия и вот порождаю это из себя. А это то откровение, противовесом которого является философское некое усомнение, чтобы не превратиться в визионера в чистом виде.
Пётр Резвых: Но это не усомнение. Хайдеггер очень остроумно называет это словом сдержанность (Verhaltenheit). Это такая специфическая установка. Хайдеггер наверняка отсюда эти импульсы получил к экспликации этих идей, потому что «Beiträge» пишутся примерно в то же время, когда Шрётер начал вот этими вещами заниматься в конце 1920-х годов. Как это ни странно, удерживание поспешного стремления обогнать требует большего усилия. Представление о том, что напрячься и изготовить — это наибольшая степень творческого усилия, это ерунда. Определенные вещи не делать гораздо труднее, чем делать, и Шеллинг об этом говорит. Одной из позднейших параллелей к этому соображению является знаменитое место в «Или—Или» Кьеркегора: вот это рассуждение о том, что ты можешь это делать или этого не делать, если сделаешь, то пожалеешь, если не сделаешь, то тоже пожалеешь. Кьеркегор как раз говорит, что самое трудное — как раз удержаться в точке до определенности, и это требует наибольшего усилия. То есть, наибольшего усилия требует удерживание поспешного желания обязательно приобрести, закрепить и считать, что ты этим уже владеешь, этим управляешь.
Екатерина Хан: И оформить в качестве понятия?
Пётр Резвых: И оформить в понятии. И интересно в связи с этим, что Шеллинг поэтому говорит, что система не только позитивное имеет значение. Системы появляются именно потому, что это движение, которое все время предварительный характер каждого шага сохраняет, где-то стопорится. Помните, он играет с буквальным значением «systhema» — эксплицитно потом это в текстах 1830-х годов он обыгрывает — что одно из значений греческого слова systhema это «затор, закупорка», Stockung он это называет по-немецки. Когда течение прекратилось, когда вот в трубах произошла закупорка, возникла «система». Система возникает, когда непроходимость. И Шеллинг эксплицитно это обыгрывает и говорит, что системы философские тоже возникают от недостатка подвижности, от того, что где-то что-то вдруг заклинило, где-то вдруг что-то застряло. Мы видели это место в «Мировых эпохах» в нашем тексте — оно очень даже показательное в этом отношении [45:53]
Он говорит: «в живой связи целого, определяющей его место, а тем самым и границы его значимости, каждое из двух положений может оказаться истинным. Поэтому можно было бы сказать, наоборот: всякое положение вне системы ложно, лишь в системе, в органической связи живого целого содержится истина. Следовательно, система в дурном смысле слова, как и все плохое вообще, происходит от застоя, от недостаточной силы развития, повышения, продвижения вперёд». Этот мотив здесь тоже есть.
Вот это такие принципиальные методические вещи, которые в самом начале обсуждаются. А дальше Шеллинг развертывает такой масштабный нарратив, который мы совсем в деталях шаг за шагом сейчас не будем реконструировать, но общая линия, думаю, нам будет понятна.
Пётр Резвых: Это сложный вопрос. Я уже не говорю о том,что к 1848 году у Шеллинга было тоже отношение такое…
Даниил Аронсон: Шеллинг события не увидел.
Пётр Резвых: Ну, он много чего увидел того, чего было к месту, на самом деле. Я по этому поводу выступал в Калининграде, если интересно («Шеллинг и революция: государство как средство»). Там просто есть интересный материал дневниковый, я там его цитирую. Там всякие весёлые есть вещи, по поводу того, какие формы имеет народное ликование и как на них реагирует философ — это очень любопытно.
[31:56]
Итак, мы говорили, что одна важная тема связана со статусом философской речи, c промежуточным характером того предприятия, которое Шеллинг здесь затевает. С этим связана и его специфическая методическая установка, которую Шеллинг в самом начале здесь заявляет — то, что я условно называю методическим антропоморфизмом. Если возможна какая-то другая инвестиция, кроме инвестиции, которую может дать движение голых понятийных форм, то, что туда может быть вложено — это то, что человек может почерпнуть из своего собственного внутреннего опыта. Легитимация такого обращения к внутреннему опыту и к аналогии между человеческими отношениями и обстоятельствами и большими метафизическими связями — заключается для Шеллинга в том, что человек обладает специфическим статусом, свидетельством творения, как он говорит, со-ведением (Mit-Wissenschaft). Человек причастен началу, и эта его причастность началу не только даёт нам право, но и обязывает нас мыслить, опираясь на этот сверхмирный принцип, который есть в человеке и через обращение к которому философское исследование получает каждый раз новый ресурс, поскольку в человеке есть такой сверхмирный принцип, это позволяет нам через обращение к самому себе осуществить внутренний диалог между двумя сущностями, одна из которых знает, а другая ищет знания, одна из которых вопрошает, а другая ответствует. Как говорит Шеллинг, эта внутренняя беседа есть подлинное таинство философа, лишь внешней тенью и призраком которого является то, что обычно именуют диалектикой, а именно, диалектика голых понятийных форм. Отсюда эта его установка, исторически связанная с его апелляцией к Гаману (он здесь и в других текстах в этой связи цитирует Гамана, «человек есть источник аналогий для универсума»).
Даниил Аронсон: Аналогия беседы связана с тем, что если у Гегеля те, что диалектически взаимодействуют — это понятия, то у Шеллинга это лица?
Пётр Резвых: Да, это лица, персоны, которые становятся персонами потому, что каждая представляет собой сложную констелляцию сил. Поэтому у Шеллинга и диалектическое движение совершенно по-другому устроено, чем у Гегеля. Но к этому мы еще вернемся.
Итак, апелляция к сверхмирному принципу даёт нам возможность рассматривать человека как источник аналогий для первосущности и позволяет опираться в значительной степени вот на это внутреннее созерцание — причем на внутреннее созерцание не только в каком-то специальном аскетическом смысле, но и на вполне повседневный, житейский опыт, связанный с действием самоопределения, принятия решения, обращения к самому себе, рефлексии и так далее. То есть это те вещи, которые не являются прерогативой как бы специального аскета-философа, который особую отдельную духовную практику для этого использует, а которые в принципе любому человеку доступны — в той мере, в какой он обращаясь к себе, может как-то схватить эти первые движения, которые в нем с этим домировым прошлым его связывают. То есть, он связан каким-то образом с теми истоками, которые являются истоками Вселенной , и движение этих начал в себе он может поймать и по этому движению понять, как в начале диспозиция этих движений была каким-то образом задана или предобразована.
В связи с этим представление о том, что отношения между этими сущностями, которые в диалоге находятся, это отношения между персонами (отношения между персонами — это прежде всего отношения между волями, а значит, между силами), оно приводит к очень важному моменту, который существенным образом шеллинговскую диалектическую модель от гегелевской отличает. Для Шеллинга противоположности, которые являются как бы действующими принципами внутри диалектического движения, выступают все время как силы: это значит, что они выступают как интенсивные величины. Выступая все время как интенсивные величины, они друг через друга все время обнаруживаются — через противодействие друг другу. И этот характер противодействия всегда имеет количественное измерение, то есть всегда силы не просто противостоят друг другу, но из этого противостояния развёртывается континуум их возможных количественных соотношений друг с другом. Это его любимая интуиция ещё с самых ранних сочинений, и в этом смысле любые антитезы, любые противоположности: субъективное—объективное, идеальное—реальное, и все прочие — не берутся как абстрактные логические антитезы. Они берутся всегда как силовые величины, они всегда находятся в процессе взаимодействия. Этот процесс взаимодействия — это процесс изменения их количественного соотношения и изменения перевеса одного над другим.
Илья Гурьянов: То есть, перетягивание каната.
Пётр Резвых: Если угодно. И с этой интуицией как раз связаны все его дальнейшие попытки развернуть повествование, частично диалектическое, частично визионерское, о том, как же первосущность собственно становится источником бытия.
[38:57]
Даниил Аронсон: Всё-таки, у нас две очень разные аналогии, я пытаюсь в голове их связать. Одна — беседа, где они беседуют, а другая — физический образ поля.
Пётр Резвых: Но это не мирная беседа, это соотношение между вопрошающим и ответствующим… это, если угодно, такая майевтическая беседа.
Эльфир Сагетдинов: Разборка.
Пётр Резвых: Здесь нет этих мотивов так явно, как они есть в более поздних текстах. Например, в эрлангенском курсе есть огромный, совершенно чудесный пассаж про майевтику, где он очень остроумно буквализует эту метафору родовспоможения. Что происходит, когда происходит родовспоможение? Это тоже противоборство двух тенденций: тенденции, которая связана с младенцем, стремящимся выйти наружу, и тенденции усилий роженицы, которая на самом деле, парадоксальным образом, только благодаря тому позволяет ему выйти наружу, что препятствует ему действовать самостоятельно. И он там говорит, что именно поэтому задача повивальной бабки заключается не в том, чтобы облегчить деятельность роженицы, а наоборот, чтобы её затруднить максимально, чтобы роженица больше напрягалась. Потому что если она напрягаться не будет, то противодействия не будет, а если противодействия не будет, то плод не родится, или он родится какой-то неправильный, уродливый и так далее. Это означает, что майевтическое движение — это аналогия между майевтическим движением в философском смысле и собственно родами. Шеллинг вообще очень любит перинатальные метафоры ; достойно всяческого удивления, что никто из психоаналитиков до недавнего времени вообще этими текстами не интересовался, хотя для всякого рода глубинной психологии это просто Клондайк. Есть только одна смешная феминистическая книжка на эту тему, но не очень убедительная, а так вообще люди потеряли много, конечно.
Даниил Аронсон: А вот всё-таки насчёт беседы: получается, раз для него это вполне такая цельная аналогия, то для Шеллинга то, что передается в беседе, это не какие-то дискретные штуки типа смыслов, а какие-то воздействия?
Пётр Резвых: Да, это взаимодействие, это не обмен информацией и даже не обмен аргументами. Отсюда далеко очень пойти можно: ведь это вопрошание и ответствование понимаются не как дискурсивные операции, они почти в протохайдеггеровском смысле могут быть поняты.
Даниил Аронсон: Это обмен заряженными частицами
Пётр Резвых: Да, если угодно.
Екатерина Хан: То есть, если возвращаться к предыдущему, можно ли предположить, что это как раз связь условного откровения той воли, которая является изначальной, но которая не является собственным произволением… то есть, я не совершаю предугадывание потому, что сажусь, например, напрягаюсь, предпринимаю усилия и вот порождаю это из себя. А это то откровение, противовесом которого является философское некое усомнение, чтобы не превратиться в визионера в чистом виде.
Пётр Резвых: Но это не усомнение. Хайдеггер очень остроумно называет это словом сдержанность (Verhaltenheit). Это такая специфическая установка. Хайдеггер наверняка отсюда эти импульсы получил к экспликации этих идей, потому что «Beiträge» пишутся примерно в то же время, когда Шрётер начал вот этими вещами заниматься в конце 1920-х годов. Как это ни странно, удерживание поспешного стремления обогнать требует большего усилия. Представление о том, что напрячься и изготовить — это наибольшая степень творческого усилия, это ерунда. Определенные вещи не делать гораздо труднее, чем делать, и Шеллинг об этом говорит. Одной из позднейших параллелей к этому соображению является знаменитое место в «Или—Или» Кьеркегора: вот это рассуждение о том, что ты можешь это делать или этого не делать, если сделаешь, то пожалеешь, если не сделаешь, то тоже пожалеешь. Кьеркегор как раз говорит, что самое трудное — как раз удержаться в точке до определенности, и это требует наибольшего усилия. То есть, наибольшего усилия требует удерживание поспешного желания обязательно приобрести, закрепить и считать, что ты этим уже владеешь, этим управляешь.
Екатерина Хан: И оформить в качестве понятия?
Пётр Резвых: И оформить в понятии. И интересно в связи с этим, что Шеллинг поэтому говорит, что система не только позитивное имеет значение. Системы появляются именно потому, что это движение, которое все время предварительный характер каждого шага сохраняет, где-то стопорится. Помните, он играет с буквальным значением «systhema» — эксплицитно потом это в текстах 1830-х годов он обыгрывает — что одно из значений греческого слова systhema это «затор, закупорка», Stockung он это называет по-немецки. Когда течение прекратилось, когда вот в трубах произошла закупорка, возникла «система». Система возникает, когда непроходимость. И Шеллинг эксплицитно это обыгрывает и говорит, что системы философские тоже возникают от недостатка подвижности, от того, что где-то что-то вдруг заклинило, где-то вдруг что-то застряло. Мы видели это место в «Мировых эпохах» в нашем тексте — оно очень даже показательное в этом отношении [45:53]
Он говорит: «в живой связи целого, определяющей его место, а тем самым и границы его значимости, каждое из двух положений может оказаться истинным. Поэтому можно было бы сказать, наоборот: всякое положение вне системы ложно, лишь в системе, в органической связи живого целого содержится истина. Следовательно, система в дурном смысле слова, как и все плохое вообще, происходит от застоя, от недостаточной силы развития, повышения, продвижения вперёд». Этот мотив здесь тоже есть.
Вот это такие принципиальные методические вещи, которые в самом начале обсуждаются. А дальше Шеллинг развертывает такой масштабный нарратив, который мы совсем в деталях шаг за шагом сейчас не будем реконструировать, но общая линия, думаю, нам будет понятна.
Илья Гурьянов: Можно уточнить ещё один момент методический? Всё-таки то повествование, которое перед нами разворачивается, оно имеет статус вот этого Darstellung, репрезентации, представления, изображения, описания…но
Пётр Резвых: Оно осциллирует все время между Darstellung и Erzählung. Оно о чем-то рассказывает, но рассказ строится все время как то, что сопровождаетсядиалектическим движением. Он же говорит, что наша мысль должна сопровождаться диалектикой, как речь сопровождается ритмом. То есть определенное членение этого рассказа все равно даёт диалектическая конструкция…
Илья Гурьянов: В тот момент, когда возникает «закупорка» вот этого диалектического движения в развороте, в перетягивании каната между какими-то этими противоборствующими силами, он как бы вынимает из вот этого исторического и одновременно опытного компонента какое-то положение, которое может быть прочитано либо через историю, либо через какие-то библейские отсылки, и это позволяет ему дальше продвинуться — то есть это не просто движение понятий. Но в связи с тем, что ещё Данила в начале спросил, как-то совсем теряется вот эта вот будущая перспектива. И всё-таки, в свете того, что то, что он говорит, может оказаться каким-то событием или пророчеством, то есть о том, о чем мы ещё не знаем, поскольку события не случилось, всё-таки какая-то перспектива будущего сохраняется? Репрезентативность того повествования, которое перед нами разворачивается, оно размывается не только тем, что в него постоянно откуда-то, как туз из рукава, примешивается составляющая опыта, или прошлого, но и ещё какая-то перспектива будущего присутствует — она тоже эту репрезентацию куда-то размыкает туда вперёд? Она совсем-то не теряется?
Дмитрий Кухарев: И до этого вопроса ещё вопрос про осцилляцию языка не только между языком прошлого или настоящего, но также и мистическим языком, которого он тоже касался в первых частях…
Пётр Резвых: Это не совсем мистический язык, именно потому что мистический язык — это язык мистического видения… в нем как раз нет структуры. Это такая глоссолалия. В нем как бы есть какой-то субстрат, но это язык, который когда сам себя не знает, он сам себя не понимает. И поэтому это не просто некоторое визионерское переживание. Это каждый раз герменевтический процесс. Каждый раз истолковывание, каждый раз проецирование какой-то диалектической модели на реальный материал опыта. Нельзя сказать, что он растворяется полностью в этой модели, что он растворяется в интерпретации — там все время остаток есть.
Илья Гурьянов: Это если мы его опознаём. Но я имею в виду, что это методический вопрос про понятие будущего.
Пётр Резвых: У нас всегда есть два готовых ответа. Во-первых, что Шеллинг написал только «Прошлое». Есть наброски к «Настоящему», их немного — это такое довольно странное зрелище, первые наброски его ко второй книге. Наброски к третьей книге, видимо, тоже были. Можно или нельзя их как-то извлечь из того огромного массива, который в Берлине лежит, из которого два тома уже напечатаны – сложный вопрос, этим никто толком не занимался, это такая невыработанная руда. Я думаю, что этот вопрос как раз, это и есть главная шеллинговская методическая проблема. Когда мы будем сравнивать версии, мы это ясно увидим: с одной стороны, есть необходимость в том, чтобы в каком-то определенном порядке разграничить речь о прошлом, речь о настоящем, речь о будущем, а с другой стороны, сам смысл той концепции времени, которую он предлагает, делает это невозможным. Последние два наших занятия были посвящены как раз обсуждению этой органической теории времени, в которой время как континуум не слагается из частей, вся вечность целиком содержится в каждом мгновении и так далее. Вечное прошлое, вечное настоящее и вечное будущее — им сопричастны каждое мгновение, каждый момент в любой, даже наималейший временной отрезок. И не исключено (по этому поводу есть много гаданий всяких, фантазий), даже вполне убедительно выглядит то, что это методическое затруднение — одна из причин, по которым трактат не был закончен. Он написал «Прошлое», причем само «Прошлое» он не мог одолеть, потому что оказалось, что тот нарратив, который он пытается строить, неизбежно должен строиться как бы по законам механического времени, когда одно предшествует, а другое последует, но на самом деле понятно, что это предшествование и последование не есть механическое прибавление части к части.
Поэтому вы увидите, что если посмотреть на то, как соотносятся, например, версия 1811 года и версия 1815 года, то это очень странное зрелище. Там смысловые блоки, или часть смысловых блоков одни и те же, но материал там скомпонован в разном порядке и по-разному собран этот процесс; то есть, ингредиенты для него одни и те же. Какие-то вещи, правда, исчезают, например, вся тринитарная тематика, её практически нет в версии 1815 года. То есть, разговор об Отце и о Сыне там пропадает. Почему — интересный вопрос. Но очень многие вещи связаны с теми фазами, о которых я хотел кратко рассказать: в более поздних версиях разные моменты этого процесса, их хронологический порядок в рассказе сам Шеллинг не мог определить однозначно, что позже, что раньше, поскольку оно как бы все сразу. Поэтому такое странное впечатление. Он сталкивался с массой методических проблем, и в том числе с тем, что между тем, как понимается время, и тем, как темпоральность самого этого изложения устроена, было все время напряжение. Может быть, поэтому «Будущее» и не было написано, а к «Настоящему» он только приступил.
Илья Гурьянов: Дело даже не в том, что он написал, а чисто методически в тексте, когда он описывает противоборство между этими самыми силами, это все достаточно убедительно и здорово, это динамично. Но часто возникает сложность в момент перескока, перестановки блоков. Почему вот от этой динамики некоторый следующий момент — он такой, а не какой-то другой? Отчасти это фундировано отсылкой к опыту, это должно быть известно, в качестве канвы берётся какое-то библейское повествование, или там отсылки к Платону — то есть какая-то логика имеющихся текстов, это немножко размыкает какую-то репрезентацию, фактичность, выбор ориентиров, реперных точек в культуре — в прошлом… но с другой стороны, у него есть опция к этому не обращаться, а опция все равно совершить вот этот самый переход. Почему? Потому что есть ещё в этом же моменте прошлом и будущее, и непонятно, а станет понятно из перспективы того события, которое ещё не произошло. То есть это вообще можно не обосновывать, потому что это будет обосновано событием. Просто иногда, я помню, когда мы читали, мы не могли понять, почему такой переход происходит, даже отрешившись от того, что это незаконченный текст, не до конца консистентный… но может быть это как раз «не баг, а фича», и визионерский момент там всё-таки содержится? Вот такой переход — и непонятно почему, а вот будет событие, и станет понятно.
Пётр Резвых: Может быть. У него было притязание такое, судя по амбициозным достаточно формулировкам во введении, что этот текст должен получить прирост значений не из него только одного, а из того, что история откроет какой-то другой горизонт понимания. Об этом же как раз конец «Введения», последние строки:
«Сверхчувственные мысли обретают теперь физическую силу и жизнь, и наоборот, природа все более становится зримым отпечатком наивысших понятий. Ещё немного, и то презрение, с которым и прежде на все физическое взирали свысока разве что невежды, исчезнет, и вновь обретут истинность слова: Камень, который отвергли строители, стал во главу угла. Тогда сама собою явится столь часто тщетно искомая популярность. Тогда между миром мысли и миром действительности не будет больше различия. Будет один мир, и умиротворение золотого века впервые возвестит о себе в единодушной связи всех наук.
Имея в виду эту перспективу, которую настоящее сочинение предполагает подтвердить более чем одним единственным способом, позволительно отважиться на многократно обдуманную попытку, содержащую некоторые приготовления к этому будущему объективному изложению науки. Возможно, ещё явится тот, кто сложит величайший эпос, объемля в духе, как говорят о древних провидцах, то, что было, что есть и что будет. Но время это ещё не настало. Нам нельзя обманываться относительно своего времени. Провозвестники грядущего, мы не хотим ни срывать его плод прежде, нежели он созреет, ни недооценивать наше время. Оно – все ещё время борьбы. Цель исследования все ещё не достигнута; наука все ещё должна поддерживаться и сопровождаться диалектикой, как речь — ритмом. Мы не можем быть сказителями, но лишь искателями, взвешивающими все за и против любого мнения, пока не утвердится верное, несомненное, навеки укорененное».
(перевод П.В. Резвых)
Оно не утвердится не потому, что мы его специально как-то сделали.
Даниил Аронсон: То есть по сути, пока время этого экологического катарсиса, когда все со всем сольется не настало, он говорит, что наука должна себя обособлять от того, что её окружает.
Пётр Резвых: Да, она должна себя сдерживать в этом отношении, обосабливать, конечно. У него есть притязания на то, что есть какая-то событийная перспектива. Но она на то и событийная, что невозможно ей просто взять и инструментально завладеть. Я понимаю, что это самая интригующая тема — какой статус все это имеет.
Давайте тогда мы вспомним три главных «шажка» , три главных кванта, вокруг которых пока строилось все то, что Шеллинг нам излагает. Он начинает с вопроса о том, что же то начало, из которого, собственно, мир получает свое бытие. Что превыше бытия? Бытие не есть наивысшее, но то, что превыше бытия, может мыслится только как воля, причем как воля, находящаяся в покое. Он её ассоциирует с беспримесной чистотой, Lauterkeit, и эта беспримесная чистота, она постигается, как он там прямо говорит, только таким образом, что в себе её можно обрести. Это такой отчётливый экхартианский мотив: изначальная чистота божественности обретается благодаря обретению отрешенности и покоя воления в самом мыслящем.
Главный вопрос, с которого все начинается — вопрос о том, что же побудило эту изначальную чистоту выйти из отрешенного покоя и вступить в бытие, или выступить в бытие. Собственно, все дальнейшее повествование — это история о том, как эта изначальная чистота внутри себя рождает то, что позволяет ей сделаться творящей, творческой.
Даниил Аронсон: Я так понимаю, он говорит, мы должны оставаться исследователями, но исследование для него — это форма беседы с нашим die Sache selbst, философским научным предметом. То есть мы сейчас с ним в режиме исследователя взаимодействуем?
Пётр Резвых: «Искатель», он говорит.
Даниил Аронсон: А, мы его ищем. А потом мы будем друзьями.
Пётр Резвых: Ну да. Даже больше, наверное, чем друзьями, если называть вещи своими именами — понятно, что это в конечном счете должна быть живая связь любви.
Даниил Аронсон: Собственно, философы — это друзья мудрости.
Пётр Резвых: Да. Этот мотив тоже есть в более поздних текстах, и теологически он очень мощно фундирован в связи с тем, как он понимает мудрость, соответственно, премудрость — Weisheit.
Даниил Аронсон: Она христианской становится!
Пётр Резвых: Да, это, соответственно, премудрость, и со множеством коннотаций. У него там очень красивая есть интерпретация пассажей из Притчей Соломоновых, где он говорит о премудрости, которую ищут на площадях и на улицах… там очень все красиво. Как-нибудь будет время, принесу эти кусочки в черновом переводе, сможете посмотреть.
Даниил Аронсон: Есть же какой-то ещё сюжет о Богородице как премудрости…
Пётр Резвых: Есть. Этот мотив в «Мировых эпохах» тоже уже есть. Он потом много-много раз трансформируется, но даже уже в версии 1811 года явление этой премудрости, обнаружение премудрости — это как раз один из моментов этого самого движения воль. Покоящаяся воля как изначальная чистота есть воля беспредметная, она не имеет предмета и себя не знает. Чтобы себя знать, чтобы себя схватить, она должна сделаться волей к чему-то, но поскольку нет ничего, то единственное, к чему она может быть волей — это существование. Поэтому она как воля к существованию внутри себя себя схватывает, такой бёмеанский мотив (sie fasst… der Wille fasst sich). Он играет с этим двойным значением выражения «den Willen fassen» — с одной стороны это означает волю «поймать», а с другой стороны как бы волю «собрать», т.е. решиться на что-то. Mut fassen, seinen Willen fassen — взять себя в руки. Беря себя в свои собственные — даже не руки, не знаю во что..., — эта изначальная чистота сгущается до какого-то определенного воления, до воли к существованию, и таким образом внутри нее порождается двойственность, которую Шеллинг ассоциирует с двумя противоборствующими силами, в этом противоборстве друг через друга обнаруживающими какую-то содержательную определенность. Он их называет «стягивающая» и «расширяющая», понятно, что это тоже модель, которая уходит корнями в «Систему трансцендентального идеализма» с единством бесконечного и конечного и во все его ранние построения… но здесь это приобретает именно характер живого движения сил. Как говорит Шеллинг, из сращения этих двух противоборствующих, но нуждающихся друг в друге для взаимного обнаружения сил, рождается то, что он называет «первая действующая воля».
И здесь третий важный мотив, связанный с тем, что эти противоборствующие силы, которые в своих взаимных положениях, во взаимном движении конституируют эту первосущность именно как живую сущность — не просто как некоторое абстрактное понятие, а как живое подвижное какое-то целое. Они выступают, с одной стороны, как конституирующие единую сущность измерения, или начала, и они же выступают в жизненном развертывании этой первосущности как периоды, или эпохи. Эпохи, разные смысловременные фазы в раскрытии первосущности, в её развертывании, определяются этим соотношением сил и их перевесом.
Даниил Аронсон: То есть соотношением стягивающего и расширяющего.
Пётр Резвых: Да, стягивающего и расширяющего, но не просто их количественным соотношением. Потому что каждый раз прохождение в разных формах количественных соотношений даёт нам некую новую конфигурацию или форму их сосуществования. Это такой красивый и эффектный глубинно-психологический сюжет, связанный с тем, что это обращение воли на саму себя. Секрет её превращения в творческую связан с тем, что она выступает в этом взаимоотношении двух противоположных — ищущего и находящего, т.е. того, который ищет, и того, который находит, этих двух воль как двух инстанций, в которых первосущность сама себя схватывает. Первоначально, в первом рождении этой содержательной воли это самосхватывание воли имеет характер блаженной игры искания и нахождения, в которой две силы — каждая себя обретает в другой и через другую и находит себя в другой, такая блаженная любовная игра.
Даниил Аронсон: Всегда одна ищет и другая находит?
Пётр Резвых: Каждая находит себя в другой через это противодействие и контраст. Мы говорили, что там есть отчётливо эротические коннотации во всей этой метафорике, потому что он называет это Lust — радость, наслаждение, удовольствие с отчётливо эротическим компонентом. И теологически связывает это с божественной премудростью как раз. И это равновесное отношение двух сил, которые взаимно друг друга друг в друге обретают, развертывает некий континуум форм — платоновских идей — которые предстают перед нами как первая духовная материя, структурированная уже некоторыми первообразами вещей, первообразами творения. Вечная природа представляет собой сложный процесс… как он говорит, раскрытие вечной природы внутри божественности представляет собой результат взаимодействия этих противоборствующих друг другу сил, которое ритмически выглядит как постоянное чередование соединения и разделения: они не могут разделиться, потому что они друг в друге нуждаются, и они не могут соединиться, потому что они друг другу противоположны. Из этого парадоксального отношения рождается такой психопатический сценарий их взаимоотношений друг с другом, и в этом секрет превращения блаженной воли, парящей над бытием, в волю к существованию. Секрет заключается в том, что эта блаженная игра искания и нахождения постепенно интенсивирует обе стороны, и с каждым следующим соединением и разделением все больше и больше напряжения возникает в отношениях между ними — так, что эта блаженная игра превращается в распрю, Streit.
Порождается распря, и здесь один из ключевых мотивов, который потом большую карьеру сделает во второй половине XIX века — представление о том, что творческая мощь миротворящего начала — это не только мощь разума и конструктивного миростроения, но это ещё и хаотическая мощь. Эта распря, она порождает страдания, безумие, всякие дионисийские компоненты внутри божественной жизни. И Шеллинг в этой связи развертывает целый комплекс мотивов, связанных и с интерпретацией дионисийских образов, дионисийских религий античных, и глубинно-психологический, антропологический момент там есть интересный, но и там есть это знаменитое место о том, что страдание есть вообще начало и основа всякой жизни, и так далее. Вещи, которые отчётливо проецируются и на дионисийскую, и на христианскую теологию. Я не буду о них много говорить, потому что мы это обсуждали.
Итак, первый момент — это вот эта блаженная игра, второй момент — превращение её в распрю и достижение этой распрей предельного напряжения. Это предельное напряжение порождает патологическое круговращение божественного: он говорит все время об образе божественного колеса, ассоциирует его с соответствующими библейскими топосами, с колесами из видения Иезекииля, с бёмевским образом божественного колеса. И одновременно, я уже говорил об этом, с новозаветными некоторыми теологемами, в частности, с так называемым колесом рождения, или кругом жизни из послания апостола Иакова, из известного пассажа о языке, где говорится о том, что язык орган малый, а учиняет много, и что он воспаляет весь круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Весь круг жизни в греческом — это «τροχὸς τῆς γενέσεως», то есть «колесо становления». Вот это патологическое круговращение, оно и есть источник страдания в божественности. Страдание возникает из невозможности выйти из распри. Шеллинг красиво очень диалектически обосновывает: выход из распри невозможен ни благодаря победе одной из них, ни благодаря растворению одной из них, ни благодаря тому, что какая-то из них сдастся сама, а только благодаря тому, что качественно изменится само соотношение между этими силами. А это возможно только тогда, когда произойдёт удвоение этой сущности: когда из этой распри родится некая новая личность, с которой личность, конституированная распрей, может вступить в какие-то новые отношения. И в связи с этим появляется тринитарная теология: в Боге Бог должен родиться, это означает, что отношение, которое выводит его из этого круговращения и делает его одновременно и началом времени, и творцом универсума, это собственно рождение Сына от Отца. И с этим связана вся вот эта теологическая математика. И собственно это рождение новой личности — мы уже говорили в один из прошлых разов о том, что это психологически очень понятные вещи — в ситуации выхода из личного кризиса невозможно выйти путем механического разрешения соотношения между инстанциями или смысловыми потенциями, которые кризис конституируют. Нужно себя нового родить, с которым теперь ещё нужно в какие-то новые отношения вступить. Шеллинг там прямо об этом говорит: человек должен родить себе своего собственного спасителя, то есть родить свою новую личность. И то же самое происходит в божественной жизни.
Пётр Резвых: Оно осциллирует все время между Darstellung и Erzählung. Оно о чем-то рассказывает, но рассказ строится все время как то, что сопровождаетсядиалектическим движением. Он же говорит, что наша мысль должна сопровождаться диалектикой, как речь сопровождается ритмом. То есть определенное членение этого рассказа все равно даёт диалектическая конструкция…
Илья Гурьянов: В тот момент, когда возникает «закупорка» вот этого диалектического движения в развороте, в перетягивании каната между какими-то этими противоборствующими силами, он как бы вынимает из вот этого исторического и одновременно опытного компонента какое-то положение, которое может быть прочитано либо через историю, либо через какие-то библейские отсылки, и это позволяет ему дальше продвинуться — то есть это не просто движение понятий. Но в связи с тем, что ещё Данила в начале спросил, как-то совсем теряется вот эта вот будущая перспектива. И всё-таки, в свете того, что то, что он говорит, может оказаться каким-то событием или пророчеством, то есть о том, о чем мы ещё не знаем, поскольку события не случилось, всё-таки какая-то перспектива будущего сохраняется? Репрезентативность того повествования, которое перед нами разворачивается, оно размывается не только тем, что в него постоянно откуда-то, как туз из рукава, примешивается составляющая опыта, или прошлого, но и ещё какая-то перспектива будущего присутствует — она тоже эту репрезентацию куда-то размыкает туда вперёд? Она совсем-то не теряется?
Дмитрий Кухарев: И до этого вопроса ещё вопрос про осцилляцию языка не только между языком прошлого или настоящего, но также и мистическим языком, которого он тоже касался в первых частях…
Пётр Резвых: Это не совсем мистический язык, именно потому что мистический язык — это язык мистического видения… в нем как раз нет структуры. Это такая глоссолалия. В нем как бы есть какой-то субстрат, но это язык, который когда сам себя не знает, он сам себя не понимает. И поэтому это не просто некоторое визионерское переживание. Это каждый раз герменевтический процесс. Каждый раз истолковывание, каждый раз проецирование какой-то диалектической модели на реальный материал опыта. Нельзя сказать, что он растворяется полностью в этой модели, что он растворяется в интерпретации — там все время остаток есть.
Илья Гурьянов: Это если мы его опознаём. Но я имею в виду, что это методический вопрос про понятие будущего.
Пётр Резвых: У нас всегда есть два готовых ответа. Во-первых, что Шеллинг написал только «Прошлое». Есть наброски к «Настоящему», их немного — это такое довольно странное зрелище, первые наброски его ко второй книге. Наброски к третьей книге, видимо, тоже были. Можно или нельзя их как-то извлечь из того огромного массива, который в Берлине лежит, из которого два тома уже напечатаны – сложный вопрос, этим никто толком не занимался, это такая невыработанная руда. Я думаю, что этот вопрос как раз, это и есть главная шеллинговская методическая проблема. Когда мы будем сравнивать версии, мы это ясно увидим: с одной стороны, есть необходимость в том, чтобы в каком-то определенном порядке разграничить речь о прошлом, речь о настоящем, речь о будущем, а с другой стороны, сам смысл той концепции времени, которую он предлагает, делает это невозможным. Последние два наших занятия были посвящены как раз обсуждению этой органической теории времени, в которой время как континуум не слагается из частей, вся вечность целиком содержится в каждом мгновении и так далее. Вечное прошлое, вечное настоящее и вечное будущее — им сопричастны каждое мгновение, каждый момент в любой, даже наималейший временной отрезок. И не исключено (по этому поводу есть много гаданий всяких, фантазий), даже вполне убедительно выглядит то, что это методическое затруднение — одна из причин, по которым трактат не был закончен. Он написал «Прошлое», причем само «Прошлое» он не мог одолеть, потому что оказалось, что тот нарратив, который он пытается строить, неизбежно должен строиться как бы по законам механического времени, когда одно предшествует, а другое последует, но на самом деле понятно, что это предшествование и последование не есть механическое прибавление части к части.
Поэтому вы увидите, что если посмотреть на то, как соотносятся, например, версия 1811 года и версия 1815 года, то это очень странное зрелище. Там смысловые блоки, или часть смысловых блоков одни и те же, но материал там скомпонован в разном порядке и по-разному собран этот процесс; то есть, ингредиенты для него одни и те же. Какие-то вещи, правда, исчезают, например, вся тринитарная тематика, её практически нет в версии 1815 года. То есть, разговор об Отце и о Сыне там пропадает. Почему — интересный вопрос. Но очень многие вещи связаны с теми фазами, о которых я хотел кратко рассказать: в более поздних версиях разные моменты этого процесса, их хронологический порядок в рассказе сам Шеллинг не мог определить однозначно, что позже, что раньше, поскольку оно как бы все сразу. Поэтому такое странное впечатление. Он сталкивался с массой методических проблем, и в том числе с тем, что между тем, как понимается время, и тем, как темпоральность самого этого изложения устроена, было все время напряжение. Может быть, поэтому «Будущее» и не было написано, а к «Настоящему» он только приступил.
Илья Гурьянов: Дело даже не в том, что он написал, а чисто методически в тексте, когда он описывает противоборство между этими самыми силами, это все достаточно убедительно и здорово, это динамично. Но часто возникает сложность в момент перескока, перестановки блоков. Почему вот от этой динамики некоторый следующий момент — он такой, а не какой-то другой? Отчасти это фундировано отсылкой к опыту, это должно быть известно, в качестве канвы берётся какое-то библейское повествование, или там отсылки к Платону — то есть какая-то логика имеющихся текстов, это немножко размыкает какую-то репрезентацию, фактичность, выбор ориентиров, реперных точек в культуре — в прошлом… но с другой стороны, у него есть опция к этому не обращаться, а опция все равно совершить вот этот самый переход. Почему? Потому что есть ещё в этом же моменте прошлом и будущее, и непонятно, а станет понятно из перспективы того события, которое ещё не произошло. То есть это вообще можно не обосновывать, потому что это будет обосновано событием. Просто иногда, я помню, когда мы читали, мы не могли понять, почему такой переход происходит, даже отрешившись от того, что это незаконченный текст, не до конца консистентный… но может быть это как раз «не баг, а фича», и визионерский момент там всё-таки содержится? Вот такой переход — и непонятно почему, а вот будет событие, и станет понятно.
Пётр Резвых: Может быть. У него было притязание такое, судя по амбициозным достаточно формулировкам во введении, что этот текст должен получить прирост значений не из него только одного, а из того, что история откроет какой-то другой горизонт понимания. Об этом же как раз конец «Введения», последние строки:
«Сверхчувственные мысли обретают теперь физическую силу и жизнь, и наоборот, природа все более становится зримым отпечатком наивысших понятий. Ещё немного, и то презрение, с которым и прежде на все физическое взирали свысока разве что невежды, исчезнет, и вновь обретут истинность слова: Камень, который отвергли строители, стал во главу угла. Тогда сама собою явится столь часто тщетно искомая популярность. Тогда между миром мысли и миром действительности не будет больше различия. Будет один мир, и умиротворение золотого века впервые возвестит о себе в единодушной связи всех наук.
Имея в виду эту перспективу, которую настоящее сочинение предполагает подтвердить более чем одним единственным способом, позволительно отважиться на многократно обдуманную попытку, содержащую некоторые приготовления к этому будущему объективному изложению науки. Возможно, ещё явится тот, кто сложит величайший эпос, объемля в духе, как говорят о древних провидцах, то, что было, что есть и что будет. Но время это ещё не настало. Нам нельзя обманываться относительно своего времени. Провозвестники грядущего, мы не хотим ни срывать его плод прежде, нежели он созреет, ни недооценивать наше время. Оно – все ещё время борьбы. Цель исследования все ещё не достигнута; наука все ещё должна поддерживаться и сопровождаться диалектикой, как речь — ритмом. Мы не можем быть сказителями, но лишь искателями, взвешивающими все за и против любого мнения, пока не утвердится верное, несомненное, навеки укорененное».
(перевод П.В. Резвых)
Оно не утвердится не потому, что мы его специально как-то сделали.
Даниил Аронсон: То есть по сути, пока время этого экологического катарсиса, когда все со всем сольется не настало, он говорит, что наука должна себя обособлять от того, что её окружает.
Пётр Резвых: Да, она должна себя сдерживать в этом отношении, обосабливать, конечно. У него есть притязания на то, что есть какая-то событийная перспектива. Но она на то и событийная, что невозможно ей просто взять и инструментально завладеть. Я понимаю, что это самая интригующая тема — какой статус все это имеет.
Давайте тогда мы вспомним три главных «шажка» , три главных кванта, вокруг которых пока строилось все то, что Шеллинг нам излагает. Он начинает с вопроса о том, что же то начало, из которого, собственно, мир получает свое бытие. Что превыше бытия? Бытие не есть наивысшее, но то, что превыше бытия, может мыслится только как воля, причем как воля, находящаяся в покое. Он её ассоциирует с беспримесной чистотой, Lauterkeit, и эта беспримесная чистота, она постигается, как он там прямо говорит, только таким образом, что в себе её можно обрести. Это такой отчётливый экхартианский мотив: изначальная чистота божественности обретается благодаря обретению отрешенности и покоя воления в самом мыслящем.
Главный вопрос, с которого все начинается — вопрос о том, что же побудило эту изначальную чистоту выйти из отрешенного покоя и вступить в бытие, или выступить в бытие. Собственно, все дальнейшее повествование — это история о том, как эта изначальная чистота внутри себя рождает то, что позволяет ей сделаться творящей, творческой.
Даниил Аронсон: Я так понимаю, он говорит, мы должны оставаться исследователями, но исследование для него — это форма беседы с нашим die Sache selbst, философским научным предметом. То есть мы сейчас с ним в режиме исследователя взаимодействуем?
Пётр Резвых: «Искатель», он говорит.
Даниил Аронсон: А, мы его ищем. А потом мы будем друзьями.
Пётр Резвых: Ну да. Даже больше, наверное, чем друзьями, если называть вещи своими именами — понятно, что это в конечном счете должна быть живая связь любви.
Даниил Аронсон: Собственно, философы — это друзья мудрости.
Пётр Резвых: Да. Этот мотив тоже есть в более поздних текстах, и теологически он очень мощно фундирован в связи с тем, как он понимает мудрость, соответственно, премудрость — Weisheit.
Даниил Аронсон: Она христианской становится!
Пётр Резвых: Да, это, соответственно, премудрость, и со множеством коннотаций. У него там очень красивая есть интерпретация пассажей из Притчей Соломоновых, где он говорит о премудрости, которую ищут на площадях и на улицах… там очень все красиво. Как-нибудь будет время, принесу эти кусочки в черновом переводе, сможете посмотреть.
Даниил Аронсон: Есть же какой-то ещё сюжет о Богородице как премудрости…
Пётр Резвых: Есть. Этот мотив в «Мировых эпохах» тоже уже есть. Он потом много-много раз трансформируется, но даже уже в версии 1811 года явление этой премудрости, обнаружение премудрости — это как раз один из моментов этого самого движения воль. Покоящаяся воля как изначальная чистота есть воля беспредметная, она не имеет предмета и себя не знает. Чтобы себя знать, чтобы себя схватить, она должна сделаться волей к чему-то, но поскольку нет ничего, то единственное, к чему она может быть волей — это существование. Поэтому она как воля к существованию внутри себя себя схватывает, такой бёмеанский мотив (sie fasst… der Wille fasst sich). Он играет с этим двойным значением выражения «den Willen fassen» — с одной стороны это означает волю «поймать», а с другой стороны как бы волю «собрать», т.е. решиться на что-то. Mut fassen, seinen Willen fassen — взять себя в руки. Беря себя в свои собственные — даже не руки, не знаю во что..., — эта изначальная чистота сгущается до какого-то определенного воления, до воли к существованию, и таким образом внутри нее порождается двойственность, которую Шеллинг ассоциирует с двумя противоборствующими силами, в этом противоборстве друг через друга обнаруживающими какую-то содержательную определенность. Он их называет «стягивающая» и «расширяющая», понятно, что это тоже модель, которая уходит корнями в «Систему трансцендентального идеализма» с единством бесконечного и конечного и во все его ранние построения… но здесь это приобретает именно характер живого движения сил. Как говорит Шеллинг, из сращения этих двух противоборствующих, но нуждающихся друг в друге для взаимного обнаружения сил, рождается то, что он называет «первая действующая воля».
И здесь третий важный мотив, связанный с тем, что эти противоборствующие силы, которые в своих взаимных положениях, во взаимном движении конституируют эту первосущность именно как живую сущность — не просто как некоторое абстрактное понятие, а как живое подвижное какое-то целое. Они выступают, с одной стороны, как конституирующие единую сущность измерения, или начала, и они же выступают в жизненном развертывании этой первосущности как периоды, или эпохи. Эпохи, разные смысловременные фазы в раскрытии первосущности, в её развертывании, определяются этим соотношением сил и их перевесом.
Даниил Аронсон: То есть соотношением стягивающего и расширяющего.
Пётр Резвых: Да, стягивающего и расширяющего, но не просто их количественным соотношением. Потому что каждый раз прохождение в разных формах количественных соотношений даёт нам некую новую конфигурацию или форму их сосуществования. Это такой красивый и эффектный глубинно-психологический сюжет, связанный с тем, что это обращение воли на саму себя. Секрет её превращения в творческую связан с тем, что она выступает в этом взаимоотношении двух противоположных — ищущего и находящего, т.е. того, который ищет, и того, который находит, этих двух воль как двух инстанций, в которых первосущность сама себя схватывает. Первоначально, в первом рождении этой содержательной воли это самосхватывание воли имеет характер блаженной игры искания и нахождения, в которой две силы — каждая себя обретает в другой и через другую и находит себя в другой, такая блаженная любовная игра.
Даниил Аронсон: Всегда одна ищет и другая находит?
Пётр Резвых: Каждая находит себя в другой через это противодействие и контраст. Мы говорили, что там есть отчётливо эротические коннотации во всей этой метафорике, потому что он называет это Lust — радость, наслаждение, удовольствие с отчётливо эротическим компонентом. И теологически связывает это с божественной премудростью как раз. И это равновесное отношение двух сил, которые взаимно друг друга друг в друге обретают, развертывает некий континуум форм — платоновских идей — которые предстают перед нами как первая духовная материя, структурированная уже некоторыми первообразами вещей, первообразами творения. Вечная природа представляет собой сложный процесс… как он говорит, раскрытие вечной природы внутри божественности представляет собой результат взаимодействия этих противоборствующих друг другу сил, которое ритмически выглядит как постоянное чередование соединения и разделения: они не могут разделиться, потому что они друг в друге нуждаются, и они не могут соединиться, потому что они друг другу противоположны. Из этого парадоксального отношения рождается такой психопатический сценарий их взаимоотношений друг с другом, и в этом секрет превращения блаженной воли, парящей над бытием, в волю к существованию. Секрет заключается в том, что эта блаженная игра искания и нахождения постепенно интенсивирует обе стороны, и с каждым следующим соединением и разделением все больше и больше напряжения возникает в отношениях между ними — так, что эта блаженная игра превращается в распрю, Streit.
Порождается распря, и здесь один из ключевых мотивов, который потом большую карьеру сделает во второй половине XIX века — представление о том, что творческая мощь миротворящего начала — это не только мощь разума и конструктивного миростроения, но это ещё и хаотическая мощь. Эта распря, она порождает страдания, безумие, всякие дионисийские компоненты внутри божественной жизни. И Шеллинг в этой связи развертывает целый комплекс мотивов, связанных и с интерпретацией дионисийских образов, дионисийских религий античных, и глубинно-психологический, антропологический момент там есть интересный, но и там есть это знаменитое место о том, что страдание есть вообще начало и основа всякой жизни, и так далее. Вещи, которые отчётливо проецируются и на дионисийскую, и на христианскую теологию. Я не буду о них много говорить, потому что мы это обсуждали.
Итак, первый момент — это вот эта блаженная игра, второй момент — превращение её в распрю и достижение этой распрей предельного напряжения. Это предельное напряжение порождает патологическое круговращение божественного: он говорит все время об образе божественного колеса, ассоциирует его с соответствующими библейскими топосами, с колесами из видения Иезекииля, с бёмевским образом божественного колеса. И одновременно, я уже говорил об этом, с новозаветными некоторыми теологемами, в частности, с так называемым колесом рождения, или кругом жизни из послания апостола Иакова, из известного пассажа о языке, где говорится о том, что язык орган малый, а учиняет много, и что он воспаляет весь круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Весь круг жизни в греческом — это «τροχὸς τῆς γενέσεως», то есть «колесо становления». Вот это патологическое круговращение, оно и есть источник страдания в божественности. Страдание возникает из невозможности выйти из распри. Шеллинг красиво очень диалектически обосновывает: выход из распри невозможен ни благодаря победе одной из них, ни благодаря растворению одной из них, ни благодаря тому, что какая-то из них сдастся сама, а только благодаря тому, что качественно изменится само соотношение между этими силами. А это возможно только тогда, когда произойдёт удвоение этой сущности: когда из этой распри родится некая новая личность, с которой личность, конституированная распрей, может вступить в какие-то новые отношения. И в связи с этим появляется тринитарная теология: в Боге Бог должен родиться, это означает, что отношение, которое выводит его из этого круговращения и делает его одновременно и началом времени, и творцом универсума, это собственно рождение Сына от Отца. И с этим связана вся вот эта теологическая математика. И собственно это рождение новой личности — мы уже говорили в один из прошлых разов о том, что это психологически очень понятные вещи — в ситуации выхода из личного кризиса невозможно выйти путем механического разрешения соотношения между инстанциями или смысловыми потенциями, которые кризис конституируют. Нужно себя нового родить, с которым теперь ещё нужно в какие-то новые отношения вступить. Шеллинг там прямо об этом говорит: человек должен родить себе своего собственного спасителя, то есть родить свою новую личность. И то же самое происходит в божественной жизни.
Даниил Аронсон: Для него в ветхозаветное время были только Бог-Отец и Святой Дух, и между ними была распря?
Пётр Резвых: Нет.
Илья Гурьянов: Нет, это не ветхозаветное время, это ещё до начала времен, то есть это ещё до творения.
Даниил Аронсон: Но тем не менее то рождение Бога, которое происходит во время творения, это тоже не может быть совсем «липовым»…
Пётр Резвых: Это отдельный очень сложный вопрос, по этому поводу сломано много копий и много всяких обвинительных речей в адрес Шеллинга произнесено по этому поводу. Потому что у него есть очень разные высказывания по поводу этой проблемы: вечное рождение — оксюморон это или не оксюморон… В «Философии откровения» это специально довольно подробно обсуждается, он различает предсуществование логоса и рождение спасителя, вочеловечивание, и это не одно и то же… в общем, там все сложно.
Даниил Аронсон: А вечное не в качестве ежесекундного, а в качестве вечного возвращения он не?..
Пётр Резвых: Мы не готовы это сейчас обсуждать, тем более что тринитарная тема в «Мировых эпохах», когда она появляется, нельзя сказать, что она теологически очень строго субтильно разработана. Я думаю, что это интересный вопрос, почему он полностью изъял тематику Отца и Сына из второй и третьей версии. Понятно, что это новое единство — которое порождается соотношением между рождающим и рождаемым, это единство личное, единство личного общения, личного отношения. И именно благодаря этому оно распрю не выключает, оно полагает её прошлой.
Даниил Аронсон: А не может быть, что он понял, что он покушается на филиокве?
Пётр Резвых: Там филиокве достаточно эксплицитно у него сформулировано, там говорится о том, что Дух исходит от обоих.
Даниил Аронсон: Но что должно качественное отношение это событие породить… всё-таки напрашивается, что от кого-то одного.
Пётр Резвых: Там получается, что нет, потому что Дух есть живое единство. А живое единство невозможно без того, чтобы лица были как лица. Это в одну сторону работать не будет.
Илья Гурьянов: Так у Августина и есть.
Пётр Резвых: Там у него очень отчётливо видна вот эта топика согласного воления в смысле предвечного совета (Ratschluß Gottes) — хотя он этим словом не пользуется, лексикон, которым он там пользуется, прямо подталкивает к этому.
Даниил Аронсон: То есть Cын это и есть само отношение.
Дмитрий Кухарев: Дух.
Пётр Резвых: Дух есть само отношение. Так же, как это во всей традиции христианского неоплатонизма, от Кузанского ещё: единство, равенство и связь. Единство — Отец, равенство — Сын, связь — Дух Святой. Так в третьей книге «Ученого незнания», кажется. Кузанского он, конечно, не знал, но неоплатоническую традицию более раннюю он, конечно, знал хорошо.
Илья Гурьянов: Неоплатоническая тут это августинизм.
Пётр Резвых: Августина он, кстати, много читал в 1809-1810 годах. Он цитировал его эксплицитно в «Трактате о свободе», и он читал «De Libero Arbitrio» и «De trinitate» как раз в это время — это мы точно знаем. Он там много чего читал разного, но Августин, конечно, там играет большую роль.
После этого момента полагания распри как прошлого — что собственно и порождает настоящее вечное прошлое — и полагается начало времени. Последние пассажи, которые мы обсуждали в последние два или три занятия — это пассажи, связанные с пониманием времени, с этой знаменитой шеллинговской органической теорией времени, в которой прошлое, настоящее и будущее не как части, а как интенсивные величины понимаются. Что это не какие-то просто элементы мерности, а что это именно силы, силовые субстраты, соотношением которых каждый раз организуется внутренняя структура времени. Отсюда это представление о том, что каждый момент содержит время как целое, и что структурируется это соотношение времен соотношением тех самых лиц, которые образуют вот эту внутреннюю жизнь божественного.
Собственно, это то, на чем мы закончили в последний раз — как раз о Духе, который есть разделитель и управитель времен. Последний пассаж, который мы читали, был как раз Духу Святому посвящен, соотношению Отца и Сына. Последний абзац об организующем принципе периодов, на которые, собственно, организм времени членится, в которые он артикулируется — поэтому эпохи это тоже не части, а органы этого органического целого. Там понятие артикуляции играет большую роль в биологическом смысле. Дух выступает как организующий принцип реального — потому что он принцип будущего. Он свободен от противоположности сжимающей силы Отца и распространяющей силы Сына. Только в Духе они впервые достигли полного равенства, ибо он даёт обеим равное право, поскольку вечно развёртывается из Отца и через посредство Сына, и таким образом равно нуждается в обоих для своего существования. То есть Дух нуждается и в Отце, и в Сыне для своего существования, значит, он исходит от того и от другого.
«Когда сила Отца полагается как прошлое по отношению к Сыну, это отнюдь не означает, что она полагается вовсе не сущей. Она становится лишь не-сущим настоящего, но в прошлом, конечно, полагается как сущая и действующая. Но и в качестве прошлого она положена не абсолютно (ведь преодоление посредством Сына все ещё длится), таким образом, она частично ещё полагается как настоящее, частично — как будущее».
(перевод П.В. Резвых)
Настоящее и будущее не части, а именно вот эти элементы интенсивного соотношения между силами, потому что это отношение сил, одна из которых преодолевает другую. Пока преодолевание происходит, одна — частично настоящая, частично будущая, другая — частично настоящая, частично прошлая.
«Дух познает, в какой мере вечная сокровенность Отца должна быть раскрыта и положена как прошлое. Таким образом, Дух есть разделитель и управитель времен. Ибо различность и последовательность времен основывается лишь на различности того, что в каждом из них полагается как прошлое, как настоящее и как будущее. Лишь Дух исследует все, в том числе и глубины божественности. В нем одном покоится наука грядущих вещей; ему одному позволено снять печать, которой замкнуто будущее. Поэтому пророки влекомы Духом Божиим, так как только он есть отворитель времен (der Eröffner der Zeiten): ибо пророк — всякий, кто прозревает связь времен».
(перевод П.В. Резвых)
Это вот было последнее, что мы с вами читали перед Новым годом.
Пётр Резвых: Нет.
Илья Гурьянов: Нет, это не ветхозаветное время, это ещё до начала времен, то есть это ещё до творения.
Даниил Аронсон: Но тем не менее то рождение Бога, которое происходит во время творения, это тоже не может быть совсем «липовым»…
Пётр Резвых: Это отдельный очень сложный вопрос, по этому поводу сломано много копий и много всяких обвинительных речей в адрес Шеллинга произнесено по этому поводу. Потому что у него есть очень разные высказывания по поводу этой проблемы: вечное рождение — оксюморон это или не оксюморон… В «Философии откровения» это специально довольно подробно обсуждается, он различает предсуществование логоса и рождение спасителя, вочеловечивание, и это не одно и то же… в общем, там все сложно.
Даниил Аронсон: А вечное не в качестве ежесекундного, а в качестве вечного возвращения он не?..
Пётр Резвых: Мы не готовы это сейчас обсуждать, тем более что тринитарная тема в «Мировых эпохах», когда она появляется, нельзя сказать, что она теологически очень строго субтильно разработана. Я думаю, что это интересный вопрос, почему он полностью изъял тематику Отца и Сына из второй и третьей версии. Понятно, что это новое единство — которое порождается соотношением между рождающим и рождаемым, это единство личное, единство личного общения, личного отношения. И именно благодаря этому оно распрю не выключает, оно полагает её прошлой.
Даниил Аронсон: А не может быть, что он понял, что он покушается на филиокве?
Пётр Резвых: Там филиокве достаточно эксплицитно у него сформулировано, там говорится о том, что Дух исходит от обоих.
Даниил Аронсон: Но что должно качественное отношение это событие породить… всё-таки напрашивается, что от кого-то одного.
Пётр Резвых: Там получается, что нет, потому что Дух есть живое единство. А живое единство невозможно без того, чтобы лица были как лица. Это в одну сторону работать не будет.
Илья Гурьянов: Так у Августина и есть.
Пётр Резвых: Там у него очень отчётливо видна вот эта топика согласного воления в смысле предвечного совета (Ratschluß Gottes) — хотя он этим словом не пользуется, лексикон, которым он там пользуется, прямо подталкивает к этому.
Даниил Аронсон: То есть Cын это и есть само отношение.
Дмитрий Кухарев: Дух.
Пётр Резвых: Дух есть само отношение. Так же, как это во всей традиции христианского неоплатонизма, от Кузанского ещё: единство, равенство и связь. Единство — Отец, равенство — Сын, связь — Дух Святой. Так в третьей книге «Ученого незнания», кажется. Кузанского он, конечно, не знал, но неоплатоническую традицию более раннюю он, конечно, знал хорошо.
Илья Гурьянов: Неоплатоническая тут это августинизм.
Пётр Резвых: Августина он, кстати, много читал в 1809-1810 годах. Он цитировал его эксплицитно в «Трактате о свободе», и он читал «De Libero Arbitrio» и «De trinitate» как раз в это время — это мы точно знаем. Он там много чего читал разного, но Августин, конечно, там играет большую роль.
После этого момента полагания распри как прошлого — что собственно и порождает настоящее вечное прошлое — и полагается начало времени. Последние пассажи, которые мы обсуждали в последние два или три занятия — это пассажи, связанные с пониманием времени, с этой знаменитой шеллинговской органической теорией времени, в которой прошлое, настоящее и будущее не как части, а как интенсивные величины понимаются. Что это не какие-то просто элементы мерности, а что это именно силы, силовые субстраты, соотношением которых каждый раз организуется внутренняя структура времени. Отсюда это представление о том, что каждый момент содержит время как целое, и что структурируется это соотношение времен соотношением тех самых лиц, которые образуют вот эту внутреннюю жизнь божественного.
Собственно, это то, на чем мы закончили в последний раз — как раз о Духе, который есть разделитель и управитель времен. Последний пассаж, который мы читали, был как раз Духу Святому посвящен, соотношению Отца и Сына. Последний абзац об организующем принципе периодов, на которые, собственно, организм времени членится, в которые он артикулируется — поэтому эпохи это тоже не части, а органы этого органического целого. Там понятие артикуляции играет большую роль в биологическом смысле. Дух выступает как организующий принцип реального — потому что он принцип будущего. Он свободен от противоположности сжимающей силы Отца и распространяющей силы Сына. Только в Духе они впервые достигли полного равенства, ибо он даёт обеим равное право, поскольку вечно развёртывается из Отца и через посредство Сына, и таким образом равно нуждается в обоих для своего существования. То есть Дух нуждается и в Отце, и в Сыне для своего существования, значит, он исходит от того и от другого.
«Когда сила Отца полагается как прошлое по отношению к Сыну, это отнюдь не означает, что она полагается вовсе не сущей. Она становится лишь не-сущим настоящего, но в прошлом, конечно, полагается как сущая и действующая. Но и в качестве прошлого она положена не абсолютно (ведь преодоление посредством Сына все ещё длится), таким образом, она частично ещё полагается как настоящее, частично — как будущее».
(перевод П.В. Резвых)
Настоящее и будущее не части, а именно вот эти элементы интенсивного соотношения между силами, потому что это отношение сил, одна из которых преодолевает другую. Пока преодолевание происходит, одна — частично настоящая, частично будущая, другая — частично настоящая, частично прошлая.
«Дух познает, в какой мере вечная сокровенность Отца должна быть раскрыта и положена как прошлое. Таким образом, Дух есть разделитель и управитель времен. Ибо различность и последовательность времен основывается лишь на различности того, что в каждом из них полагается как прошлое, как настоящее и как будущее. Лишь Дух исследует все, в том числе и глубины божественности. В нем одном покоится наука грядущих вещей; ему одному позволено снять печать, которой замкнуто будущее. Поэтому пророки влекомы Духом Божиим, так как только он есть отворитель времен (der Eröffner der Zeiten): ибо пророк — всякий, кто прозревает связь времен».
(перевод П.В. Резвых)
Это вот было последнее, что мы с вами читали перед Новым годом.
Даниил Аронсон: Я правильно понял, что они больше не борются в Духе, Отец и Сын, но что они друг друга преодолевают? То есть они как бы играют?
Пётр Резвых: Да, но это не совсем игра. Это некий процесс, это не распря. Когда Сын преодолевает Отца – это вообще нормальный процесс, он не патологический, он правильный.
Даниил Аронсон: То есть, история — это преодоление Сыном Отца.
Пётр Резвых: Да, и этим структурируется каждый отдельный момент истории. И по мере того, как это преодоление происходит, Дух Святой выступает во все большей и большей полноте, то есть, это все тоже величины интенсивные, а не то, что бабахнул один раз из пистолета — и все сразу раскрылось. Это такой градуальный процесс, Шеллинг очень любит вот эти идеи, градуальные отношения, поэтому он все время говорит о повышениях, Steigerungen… В этом, собственно, смысл шеллинговских потенций, то есть степеней. Ступеней — но в то же время и степеней как таких вот силовых интенсивных величин. Такая вот общая реминисценция. (…)
Мы видели в прошлый раз, как Шеллинг некоторые формулировки берет и перекодирует. Так он формулировку о свете и тяжести из «Трактата о свободе» прямо взял и перелицевал для соотношения между настоящим и будущим. Будущее замкнуто печатью, точно так же, как тяжесть замкнута печатью, то есть оно в прошлом. Распечатать прошлое и то будущее, которое в нем есть, открыть – это дело, собственно, Святого Духа. Точно так же, как дело света — распечатать печать, которой замкнута тяжесть, и вывести из нее всё, что в ней в свернутом виде содержится. Он буквально ту же самую формулировку берет, которая в «Трактате о свободе» и в «Изложении моей системы философии» натурфилософский смысл имеет, а здесь она получает общеметафизический смысл.
Итак, божественная жизнь, параграф 230-й… (продолжение следует)
Пётр Резвых: Да, но это не совсем игра. Это некий процесс, это не распря. Когда Сын преодолевает Отца – это вообще нормальный процесс, он не патологический, он правильный.
Даниил Аронсон: То есть, история — это преодоление Сыном Отца.
Пётр Резвых: Да, и этим структурируется каждый отдельный момент истории. И по мере того, как это преодоление происходит, Дух Святой выступает во все большей и большей полноте, то есть, это все тоже величины интенсивные, а не то, что бабахнул один раз из пистолета — и все сразу раскрылось. Это такой градуальный процесс, Шеллинг очень любит вот эти идеи, градуальные отношения, поэтому он все время говорит о повышениях, Steigerungen… В этом, собственно, смысл шеллинговских потенций, то есть степеней. Ступеней — но в то же время и степеней как таких вот силовых интенсивных величин. Такая вот общая реминисценция. (…)
Мы видели в прошлый раз, как Шеллинг некоторые формулировки берет и перекодирует. Так он формулировку о свете и тяжести из «Трактата о свободе» прямо взял и перелицевал для соотношения между настоящим и будущим. Будущее замкнуто печатью, точно так же, как тяжесть замкнута печатью, то есть оно в прошлом. Распечатать прошлое и то будущее, которое в нем есть, открыть – это дело, собственно, Святого Духа. Точно так же, как дело света — распечатать печать, которой замкнута тяжесть, и вывести из нее всё, что в ней в свернутом виде содержится. Он буквально ту же самую формулировку берет, которая в «Трактате о свободе» и в «Изложении моей системы философии» натурфилософский смысл имеет, а здесь она получает общеметафизический смысл.
Итак, божественная жизнь, параграф 230-й… (продолжение следует)
Ссылки
© 2020 ЛАБОРАТОРИЯ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ